«Если ты не самый умный — поступить в Англию невозможно», — такие мысли одолевают беларуских абитуриентов. В разговоре с EHUTimes редактор TUT.BY и политический обозреватель Артем Шрайбман развенчивает этот миф: попасть на учебу в Англию не так сложно.
«Там столько не «самых-самых», что еще удивляться будете!»
1 октября 2017 года Артему Шрайбману исполнилось 26 лет. Незадолго до этого он начал учебу на магистрской программе в The London of Economics and Political Science (сокр. LSE), которая является частью University of London. К моменту поступления, Шрайбман уже имел бакалаврскую степень по международному праву (Белорусский госуниверситет), успел поработать журналистом в информагенстве БелаПАН и стать видным беларуским политическим обозревателем TUT.BY, — главного портала страны.
Однако Артём решил учиться далее: он поступил в LSE, где спустя полтора года получил степень магистра по специальности Politics and Communication.
— Согласно международному рейтингу университетов за 2019 год (QS World University Ranking), Ваша LSE находится на 38 месте среди всех университетов, что достаточно высоко. Как Вы выбирали место учебы и обращали ли внимание на такие рейтинги?
— В мой год LSE была на первом месте то ли в мире, то ли в Европе по направлению Mediastudies — и это значительно предопределило мой выбор. Сайт моей стипендии позволял искать специальность во всех ВУЗах Британии, но та, что мне понравилась, была в 13 местах, я же подался в те, которые были выше остальных по рейтингу. Приоритетным местом я выбрал Лондон, потому что там интереснее жить, чем в маленьких городах.
— Давайте говорить о страхах желающих поступить в хорошую англоязычную магистратуру. Есть пугающее мнение, что готовиться к такому поступлению нужно как минимум за год (а лучше – за два), чтобы иметь наилучшие шансы. За сколько времени Вам удалось «провернуть» весь процесс поступления?
— Это философский вопрос… Я учил английский лет 18 перед поступлением — это считается подготовкой? (улыбается). Сам процесс был обусловлен сроками подачи и рассмотрения заявок, никакой особо подготовки не было, ведь не было никаких экзаменов. В ноябре 2016-го (за год до предполагаемого начала учебы, – прим.) я подал заявку на стипендию, в декабре-январе — в ВУЗы. В апреле у меня было собеседование на стипендию, а к тому времени уже пришли предложения из двух университетов. В конце марта я сдал TOEFL, через шесть недель пришли результаты. Затем нужно было ждать результаты собеседования, которые сообщили в конце мая или начале июня. Затем бешеными темпами — сбор оставшихся документов: подача на визу, сбор медицинских справок и т.д.
— Беларуский народ говорит: «Если ты не самый умный и не самый богатый, если ты не самый-пресамый, то поступить в престижный европейский ВУЗ невозможно»…
— Такое ощущение — самый главный барьер. Его нужно подавить в себе перед подачей документов. Там столько не «самых-самых», что еще удивляться будете!
— Что за люди учились вместе с Вами на специальности?
— Обычные парни и девушки, большинство — сразу после бакалавриата в других ВУЗах. Примерно половина из Европы, другая половина — Азия, Северная и Латинская Америка. Еще была одна африканка. Из постсоветских стран только я.
«Никаких экзаменов нет – сложнее найти деньги»
— Что конкретно Вам потребовалось для поступления в LSE? Кроме английского языка.
— На самом деле, поступить в ВУЗ — дело несложное. Заполняешь заявки в несколько мест и получаешь предложения. Перед этим, собрать пару нужных рекомендаций, перевести документы на английский язык и придумать мотивационное письмо. Никаких экзаменов нет — сложнее найти деньги. В моем случае это была стипендиальная программа Chevening. Там вначале пришлось заполнить огромную анкету (на что ушло несколько дней), после чего отбирают на собеседование. Для поступления в ВУЗ также понадобился экзамен английского (TOEFL или IELTS). В каждом ВУЗе минимально необходимые оценки за экзамен свои. Портфолио (то, чем нужно заинтересовать жюри) нужно обычно на стипендии — там отбор посильнее, чем в ВУЗ.
Для получения стипендии Chevening требовалось расписать свой карьерный путь и планы по возвращении, чтобы они видели, во что вкладывают деньги.
— «Расписать план по возвращении», — что это значит? Они хотели, чтобы Вы уехали домой, остались, занимались конкретной деятельностью?
— Они давали мне стипендию под условие, что я вернусь, и минимум два года отработаю на родине. Некоторые не соблюдают это правило и ищут возможности остаться либо уезжают в другие страны после учебы по этой стипендиальной программе, но я таким не занимался. Именно из-за этого условия при отборе на стипендию они очень внимательно относятся к тому, есть ли у тебя понимание, как ты применишь свои новые навыки на родине.
— Как думаете, запись в портфолио об опыте на TUT.BY сыграла какую-то особенную роль, или в Англии это «до лампочки»?
— «До лампочки», я думаю, они не знают, что это такое. Оценивают, скорее, то, что ты им напишешь, плюс оценки с предыдущего образования и рекомендации. Для стипендии, возможно, это имело какое-то значение, потому что в отборе участвовали люди из посольства, которые знали меня заранее, но в целом журналистика сама по себе интересная для них сфера «инвестиций», а где ты ей занимался — это вторично.
— Ваш английский был как-то особенно хорош? Что Вы получили за TOEFL?
— Слишком лестная формулировка — нормальный был английский, хватило для поступления (улыбается). 113 баллов из 120.
Что покрывала стипендия?
— Недавно меня напугала одна дама из сферы высшего образования. Когда я для корысти спросил у нее, мол, что требуется для поступления в магистратуру, она сказала, что это дико сложно, что необходимы настоящие научные статьи, опубликованные в англоязычных рецензируемых журналах, что нужно заранее придумать тему магистерской работы.
— По поводу статей — полная ерунда. По поводу темы магистерской тоже бред. Тему определяешь с преподавателем за несколько месяцев работы над магистерской.
— А можно узнать, что покрывала стипендия?
— Плату за учебу и еще 1300 фунтов сверху на все остальные расходы.
— В Лондоне реально прожить на эти деньги?
— В принципе да, если на всем экономить. Основная часть — от 600 до 800 фунтов — аренда комнаты, если в пределах часа езды от учебы. На краю города можно и дешевле найти, но тогда расходы на транспорт сделают экономию минимальной. А транспорт в Лондоне очень дорогой и жизнь в центре позволяет экономить на этом. Я почти весь год ездил на учебу на велосипеде. К тому же, я поехал с женой, она там работала, а жили мы в одной комнате, и в итоге на всё хватало. Даже путешествовали. Также сэкономить позволяет большой выбор продуктовых магазинов. Цены разнятся в несколько раз от самых дешевых до самых дорогих сетей.
Недавно на сайте Наша Ніва была опубликована полезная дискуссия с названием «Уехать нельзя остаться: где поставим запятую?», в которой участвовал и наш собеседник. Там он, в числе прочего, рассказывал о трудностях социализации в английском «интровертном» обществе, которое «герметично закрыто от внешних вливаний». При этом Шрайбман добавляет: «Я не ставил себе задачу социализироваться, потому что понимал, что я скоро вернусь». Мы решили спросить его и об этом.
— Вы специально выбирали стипендиальную программу, обязывающую уехать домой после учебы?
— Нет, это просто самая известная британская стипендия, а я хотел поехать именно в Британию и подходил под критерии.
Доктринальная рахитичность британцев vs. беларуский кошмар
— Есть опасение, что в неолиберальном мире полноценную стипендию, покрывающую все расходы быта и образования, гораздо легче получить в том случае, когда студент занимается областью, обещающей стремительный приработок для инвестора. Социологи связывают это с «поворотом» к поддержке situation knowledges/ситуативное знание, который предполагает извлечение прибыли из образования уже «завтра». Как действительно обстоит дело?
— Та стипендия, которую я получал, выдается британским МИДом, плюс университет сам покрывает 20%, если к нему приходят обладатели этой стипендии. Никаких заработков тут нет. Как обстоит дело с другими стипендиями и мотивациями инвесторов я, к сожалению, не знаю.
— В дискуссии на «Нашей Ниве» Вы говорите потрясающую вещь: «На факультете международных отношений Белорусского госуниверситета был гораздо больший плюрализм взглядов среди преподавателей, чем это было в LSE». Расскажите, пожалуйста, подробнее.
— В западных ВУЗах (особенно — в гуманитарных) сложилось идеологическое единомыслие. Подавляющее большинство студентов и преподавателей придерживаются левых и леволиберальных взглядов. Это не значит, что они автоматически дискриминируют людей с другой точкой зрения, но этот идеологический крен чувствуется в преподавании некоторых курсов. По моим наблюдениям, чем более курс теоретичен, тем больше в нем идеологии и взгляда на мир через призму борьбы ущемленных и эксплуататоров.
Говоря упрощенно, это идеология о том, что капитализм — это зло, а западные общества сегодня — места господства жадных корпораций, сексизма, расизма, системной дискриминации белыми мужчинами-натуралами разнообразных уязвимых групп, а Запад коллективно виноват перед бывшими колониями и должен эту вину искупить.
Добрая половина дипломных работ связана с поиском системной дискриминации и притеснения в разных сферах жизни. При этом — демонизация правых взглядов и нулевая критичность к крайне левым. Но Лондонская школа экономики в этом смысле не самый левый ВУЗ. Наш персонал, например, не присоединялся к забастовкам сотрудников других ВУЗов, когда те боролись за какие-то социальные выплаты. В БГУ же на моем факультете (международных отношений, – прим.) никакого идеологического крена я не чувствовал.
— Влияет ли эта доктринальная рахитичность и «зацикленность» британцев на академическое свободомыслие? Предпочтение «своим», цензура, наличие политически «желательных» и «нежелательных» тем работы…
— То, что я рассказываю, это не какая-то идеологическая диктатура. Мы могли свободно обсуждать любые взгляды, и я часто спорил с некоторыми преподавателями. Я не почувствовал влияния. Может быть, у кого-то отразилось, но у меня — нет.
— Что представляло собой обучение?
— Годичная программа включала семь курсов и магистерскую диссертацию. Один курс — это где-то 8-10 лекций, столько же семинаров. Два эссе — промежуточное и итоговое. По некоторым предметам были лабораторные часы за компьютерами (курсы статистики, соцопроса) и экзамены вместо эссе. Объем эссе: промежуточное — 1,5 тыс.слов, итоговое — 3-4 тыс. Итоговое эссе занимало 8-10 дней моей работы, но я работал быстрее большинства. Основной массив усилий и учебы — работа с источниками в библиотеке или дома.
— Оправдались ли Ваши ожидания от блистающего бренда «британское образование»? Это действительно настолько сильная гуманитарная школа?
— У меня не было каких-то конкретных ожиданий, но я очень доволен. Образование постоянно провоцировало самостоятельно думать, анализировать и не соглашаться. Мне не с чем сравнить, кроме беларуского, и оно не идет по качеству ни в какое сравнение с британским.
беседовал Евгений Балинский
фото TUT.BY
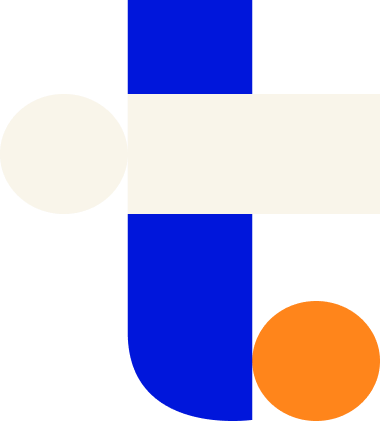





Оставьте комментарий